Новиков работает с интонацией, с тканью языка, как рисовальщик, который изображает стул, не рисуя стула, а заштриховывая пустоты между его ножками и перекладинами
Прежде всего нужно заметить, что возрождение серии современной прозы «Уроки русского» само по себе — что-то вроде сенсации. Когда осенью издательская группа «Азбука-Аттикус» объявила о закрытии серии,Читать!
Леонид Костюков в предисловии к «Природе сенсаций» пишет, что свойства этой прозы во многом определял принцип избранной аудитории, заведомого писания в стол, при котором темное по видимости место «свои» поймут с полуслова, а чего недопоймут — можно объяснить за чашкой чаю, на то они и свои.
Таким образом, нечто, имеющее хождение у широкой публики, а стало быть, например, упрощенное и облегченное для понимания, просто не имеет стимула к возникновению. При таком подходе литература не имеет смысла, если не становится пространством эксперимента, — это вроде бы общее место, но требующее от автора изрядной самодисциплины, чтобы не поддаться соблазну народной любви. Принцип, о котором пишет Костюков, можно обобщить и применительно ко всем «Урокам русского». Александр Шарыпов, Михаил Новиков — эстетская короткая проза мертвых авторов (или, слава Богу, здравствующих, как Анатолий Гаврилов) — это самая неконвертируемая на рынке литература, какую можно вообразить. Так что резоны «Азбуки-Аттикус» понять можно — но резоны «НЛО» оказались, к счастью, понятнее.
Декларативно звучит в этом смысле первый же текст сборника; конспект разрозненных мыслей — кратких bon mot, зародышей для потенциального философского эссе или просто зарисовок, набор нескольких реплик безымянного персонажа и сухое авторское резюме: «Вот и все, что он сказал отличного от говоримого другими. Прочее, то есть: даты, цены, слова “дай”, “спасибо”, “теперь направо”, “я знаком с ним, он подонок” и другие, и еще все нецензурные наши сокровища он употреблял обычным образом: так приблизительно, как ребенок кубики, когда строит игрушечный дом.
Говорят, мы живем в той мере, насколько прибавили в мире новых хороших вещей. Иными словами, выше приведена вся его жизнь».
Эта идея лингвистической аскезы (и неотделимой от нее аскезы без всяких прилагательных) в книжке одна из сквозных. Вот, например, важная в этом разрезе миниатюра «Дефект Ломизе»: о человеке, наделенном слишком острым обонянием, которое заставляет его чураться ближних и вообще бежать мира в своей стерильной квартире на голом кафельном полу. И вот как-то раз, превозмогая дурноту, Ломизе выпивает с редким гостем — и вдруг его дефект оставляет его. И внезапно он становится как все, и мир перед ним распахивается: «Сегодня праздник! Давай позовем женщин! Пусть они будут вонючими! Все равно! Свобода!» — но нет, хмель прошел, свобода миновала.
В таком же стерильном пространстве сидит Новиков-прозаик — при том что его человеческая жизнь была, судя по всему, вовсе не отшельнической и насыщенной действием, его герой размышляет в основном об упущенных возможностях и об оттенках серого. Вот рассказ из «длинных» — о человеке, который в погоне за своей фантазией поднимается на второй этаж дачи к спящей там девушке, и другом, который всегда «лежит за стеной»: «Можно сбрить это, как щетину со щек. Можно снести дачи и разбить детский парк. Можно вырыть пруды. И играть бесконечный мизер, суть которого в том, чтоб не брать никаких взяток. От малых и от сильных, от жизни и от пустоты, от страха и от счастья — можно, если умеют старые мастера. Получится и у нас, которые за стеной, — на это надеюсь, шагая к станции, где поет электричка. Это будет сенсация, поскольку сенсация в переводе всего-навсего “ощущение”».
В этом есть логика; писатель — по определению «лежащий за стеной». Другие действуют, а у него, стало быть, есть время наблюдать. Не всем же быть Хемингуэями — хотя биографически у Новикова были предпосылки сделаться Хемингуэем (биографию, помимо литературной, писатель имел по-перестроечному пеструю: учился на геофаке МГУ, закончил вечернее отделение «Губки», работал слесарем, завскладом, лаборантом, программистом, научным сотрудником и инструктором по горным лыжам и так далее). В удачных случаях писатель и пишет чаще всего о природе своей тщательно настраиваемой и педантично полируемой оптики. У Новикова разве иногда только забрезжит сюжет (как в рассказе «Муха»), который, казалось, хотел прикинуться детективным, но стало лень. В других местах — такие же незавершенные жесты иронии («Очень важные слова я слышал также из уст одного священника, он выступал по телевидению. “Мы должны свидетельствовать о своей вере”, — сказал он. Я, собственно, и хочу засвидетельствовать кое-что, некоторую ситуацию, при которой смутное свинство чуть было не случилось, прошло над нами, как удаленный гром») — этот юмористический привкус, должно быть, долго полировался в столе, чтобы приобрести нужный оттенок вялости.
То свойство прозы Новикова, которое роднит ее с поэзией, одновременно делает эту прозу смешной и не дает смеху стать ее целью. Новиков работает с интонацией, с тканью языка, как рисовальщик, который изображает стул, не рисуя стула, а заштриховывая пустоты между его ножками и перекладинами; как фотограф, рисующий действительность пятнами света и тени. Его «дефект Ломизе» — обостренное чувство языка: «Прямо когда жил с ней? Умер?» Или вот еще пример чуть менее изысканный, зато близкий сердцу каждого представителя творческой интеллигенции: «Сегодня, часов в одиннадцать утра, ему позвонила мать. “Спишь? — спросила она. — Интересно, получится?” — “Что получится?” — ответил Досталь, глядя на часы. — “Что-нибудь из тебя в жизни получится?” И она повесила трубку».
Иногда текст строится на одном только — не образе даже, а стертой метафоре. Обновление стертой метафоры — фокус неизменно эффектный, но это нужно уметь — взять какой-нибудь словесный штамп (из которых, как из кирпичей, и складывается плоское мышление — я имею в виду те самые кубики: «дай», «спасибо», «теперь направо», «я знаком с ним, он подонок») и прочесть его буквально. Вот женщина «в самом соку» в неловком положении: юбка застряла в велосипедном колесе, может соскользнуть — а под юбкой, как на грех, «ничего нет»: «Я поднял ее вместе с велосипедом над головой и быстро вынес из толпы. В проходном дворе я помог ей выпутать юбку, под которой, как я воочию убедился, действительно ничего не было — ни ног, ни ягодиц, ни всего, чему полагается быть! На прощание она подарила мне этот перстень, вскочила на велосипед и была, как говорится, такова». Или другая какая-нибудь пошлая межполовая мизансцена — и вот «Тут штора, заметив происходящее, бросилась в комнату и накрыла наконец собеседников». Буквально, читатель, опустим спасительный занавес над этой сценой агонии.
Не менее расточительно, чем с комическим, Новиков обращается и с сюжетами: на материале иного рассказа мог бы возникнуть целый роман Юза Алешковского. Но у Новикова другая цель. Чуть переставив интонацию, можно навести язык на новую резкость, и очертание того, что возникает в результате этого мыслительно-фотографического процесса, составляет настоящий сюжет его текстов. Внешняя, фабульная сторона дела оказывается при этом размытой — читателю иногда приходится перелистывать страницу назад, потому что кажется, что при верстке книжки выпустили часть текста и приставили окончание одного рассказа к началу другого. Помогает перечитать название — «На краю века», например, еще одна, наверное, главная его тема, — чтобы попытаться восстановить искомую логику. Очевидно, что писатель с таким слухом мог бы шутить блестяще и без передышки, но юмор — слишком сильный, слишком прикладной инструмент. Литература может действовать физиологически, и если автор умеет этим воздействием управлять, ему трудно бывает отказать в этом себе и читателю, который бывает разочарован, когда автор только поманит его этой возможностью — рассмеяться до слез или заплакать навзрыд — и в сторону.
Но в этом и заключается аскетический творческий метод Михаила Новикова, который как будто просто (в отличие от нас с вами) дает себе труд записывать мысли, пробегающие в голове, — и даже не очень меняет их последовательность, текст, как русло, отражает их прежнее, естественное течение, до слов, которые потом только заберут их в набережные формальной логики (все видят сны — но нужно быть художником с дарованием Дали, чтобы их воспроизвести). Показная небрежность — кажется, что подобные мысли посещают каждого мыслящего тростника по десять раз на дню, но это, конечно, не так. Это такие мысли, о которых Даниил Хармс писал: «Теперь перехожу к Леониду Савельевичу Липавскому. Он не постеснялся сказать мне в лицо, что ежемесячно сочиняет десять мыслей. Во-первых, врет. Сочиняет не десять, а меньше. А во-вторых, я больше сочиняю. Я не считал, сколько я сочиняю в месяц, но должно быть больше, чем он…»
Михаил Новиков любил обэриутов, и в его стихах это довольно очевидно. Проза же его, пусть и абсурдистская, оперирует в большей степени с абсурдом языка, чем с абсурдом мира; роднит его в большей степени с поэтами, современными ему, — концептуалистами. И вот с ними-то отношения у Новикова были совсем не гладкие. Когда пишешь об авторе, который в то же время был литературным критиком, трудно избежать искушения поймать его за язык и применить к нему самому писанное им о других — вот, скажем, о Льве Рубинштейне: «Это странно, это кажется радикальным экспериментом, это озадачивает — но это не особенно смешно. Во всяком случае, картины Кабакова или стихи Пригова смешнее. Возможно, потому, что у Рубинштейна если и есть сатирическое жало, направлено оно исключительно на язык. На тот, который способен порождать словосочетания типа “жало, направленное на язык” — но никак не на обстоятельства бытования этого самого языка». Эти «жала, направленные на язык» Новиков вылавливает у себя не всегда, потому что одно дело — какие цели вчитывает автору рецензент, а совсем другое — что автор сам о себе думает. Возможно, Новиков — и это одна из примет времени, в котором он, по несчастью, остался, — выше языкового слуха ставил остранение любой ценой. Иногда более удачно («В переулке стоит моя старая прокуренная машина, внутри которой мой старый прокуренный я»), иногда — гораздо менее. Скажем, словосочетание «Женская девушка небольшого роста» — просто какое-то поэтическое общее место тех лет; ср. у Алексея Цветкова-старшего: «Жил на свете мальчик детский, лыко плотное вязал: уходил на Павелецкий, на Савеловский вокзал» — или у Олега Григорьева: «Я вылепил ей из хлеба // Человечка мужского, // Она к нему прилепила // Человечка другого. // К его голове я приклеил // Локон ее волос. // Потом нас по разным точкам // Тесный “столыпин” развез».
Сам Михаил Новиков остро переживал «конец века» — так озаглавлен один из его рассказов, тому же посвящен в «Природе сенсаций» неожиданно критический текст, который торчит среди художественной прозы ни к селу ни к городу — но он, очевидно, необходим для ее понимания. В нем Новиков хоронит «позднесемидесятническую поэтику» (на примере творчества Тимура Кибирова, Сергея Гандлевского и Д.А. Пригова) вместе с ее главным инструментом — иронией: «Так и просится объяснение по-марксистски вульгарное: исчезла социальная база, размылась и растворилась аудитория, способная оценить и принять в качестве модели поведения эту особую независимость “дворников и сторожей”. Иначе говоря, исчезла критическая масса людей, способных проводить время во вдумчивой праздности». И в продолжающемся творчестве певцов вдумчивой праздности Новиков-критик видит уже только «путь незастреленного Ленского — во всей ужасающей красе беспробудного провинциализма».
Будучи по летам младше тех представителей московского концептуализма и «Московского времени», которых сам считал устаревающими или устаревшими, Новиков на самом деле в каком-то смысле относился к предыдущему по отношению к ним литературному поколению. У него была, скажем, официальная литературная карьера, он был подцензурен — в 1989 году закончил Литинститут по специальности «литературный сотрудник газеты», работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», где в 1990 году вышел его сборник «Столичные штучки, или Школа одиночества»; с 1992 года — член Союза писателей, что для человека его поколения даже как-то удивительно. Для того писательского круга, в котором Новиков вращался, он был удивительно демократичен: скажем, как сообщает сайт fantlab.ru, «в 1996 году под псевдонимом Федор Лустич издал криминально-эротический роман-утопию “Убить нежно”». Параллельно с тем и неподцензурных форм бытования литературы не миновал: в 1982 году вместе с М. Файнерманом, М. Андриановой, И. Ахметьевым, Б. Колымагиным входил в московскую литературную группу, издававшую самиздатовский альманах «Список действующих лиц», в котором дебютировал как поэт. Выше всего ставил поэтов Лианозовской школы. Цитировавшийся выше текст о Рубинштейне заканчивается так: «Это никак не легкое чтение, поскольку и сам не заметишь, как затянет тебя в воронку великой тоски под названием “конец века”. Который, конечно, ерунда и условность, но который все-таки ужас».
В отличие от многих своих сверстников в бытовом плане Новиков неплохо устроился в постперестроечную эпоху: успел пожить в Америке, в середине 90-х работал менеджером в разных коммерческих компаниях, одновременно печатался как прозаик.
Читать!
Теперь так не пишут, гвозди бы делать из этих людей. И эта прореха между поэтическими средствами, которые использовал Новиков как писатель, и его же взглядом критика, ту поэтику отрицавшего, полагавшего, что она не пережила смены читателя, при заведомой герметичности собственной новиковской прозы бесконечно интригует — на этом пустом месте могло бы много вырасти.
Жаль, не пришлось.
Михаил Новиков. Природа сенсаций: Рассказы. Предисловие Леонида Костюкова. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 312 с.
Серия «Уроки русского». Составитель серии Олег Зоберн. Дизайнер серии Дмитрий Захаров
КомментарииВсего:3
Комментарии
- 29.06Стипендия Бродского присуждена Александру Белякову
- 27.06В Бразилии книгочеев освобождают из тюрьмы
- 27.06Названы главные книги Америки
- 26.06В Испании появилась премия для электронных книг
- 22.06Вручена премия Стругацких
Самое читаемое
- 1. «Кармен» Дэвида Паунтни и Юрия Темирканова 3451716
- 2. Открылся фестиваль «2-in-1» 2343354
- 3. Норильск. Май 1268585
- 4. Самый влиятельный интеллектуал России 897666
- 5. Закоротило 822094
- 6. Не может прожить без ирисок 782225
- 7. Топ-5: фильмы для взрослых 758670
- 8. Коблы и малолетки 740845
- 9. Затворник. Но пятипалый 471217
- 10. Патрисия Томпсон: «Чтобы Маяковский не уехал к нам с мамой в Америку, Лиля подстроила ему встречу с Татьяной Яковлевой» 403036
- 11. «Рок-клуб твой неправильно живет» 370440
- 12. ЖП и крепостное право 354992


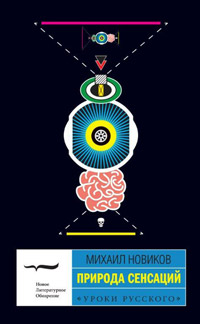
Варвара, вы... любили его?